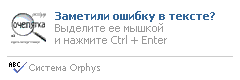
|
Написал статью: Opanasenko
Трендспоттинг-2019
Каким был 2018 год в искусстве и что из того, что было посеяно в предыдущие годы, взойдет в 2019 году? За круглым столом собрались художник Ян Гинзбург, куратор Московского музея современного искусства Анна Журба, PR-консультант Анна Дюльгерова, руководитель образовательного проекта RMA «Арт-менеджмент и галерейный бизнес» Николай Палажченко и шеф-редактор «Артгида» Мария Кравцова, чтобы обсудить тренды нашей художественной индустрии.
Мария Кравцова: Раз в год «Артгид» собирает за круглым столом экспертов, чтобы обсудить итоги уходящего года и попытаться предсказать, каким будет год наступающий. Мы анализируем текущие процессы, пытаясь сформулировать тренды — как позитивные, так и негативные, — которые будут определять состояние современного искусства и художественной индустрии в новом году. Многие страхи (особенно связанный с геополитическими приключениями России страх изоляции), которые мы обсуждали в 2015 или в 2016 году, не стали реальностью. Все вроде бы хорошо и даже местами отлично. Институции множатся и экстенсивно растут, выставки открываются, музеи отчитываются о рекордной посещаемости, региональные чиновники собираются поднимать Россию с колен средствами культуры… При этом все больше людей признаются мне в том, что живут в ощущении катастрофы. Они не могут до конца сформулировать, что именно их мучает, но говорят, что смотрят в будущее нашей индустрии без оптимизма.
Николай Палажченко: Мы действительно сегодня находимся в ситуации очень насыщенной художественной жизни: Кабаковы и Ларионов в Третьяковке, Пикассо и Хохлова в ГМИИ, прекрасная выставка Нисского в ИРРИ, потрясающая выставка памяти одного из создателей НЭРа архитектора Ильи Лежавы в МУАРе и так далее, и тому подобное. Откуда берется это ощущение катастрофы? У меня есть не то чтобы ответ на твой вопрос, но некоторое наблюдение. Это ощущение связано с до конца еще не отрефлексированным процессом разрушения привычных иерархий и структур. Этот процесс, вернее, процессы шли в течение последних полутора десятилетий и вот, наконец, они практически завершены. Главным медиа стал интернет, и не просто интернет, а социальные сети с их горизонтальной организацией. Это привело к умалению роли художественной критики и вообще к истончению зоны экспертизы и рефлексии. Сегодня «рефлексия» какого-нибудь селеба на какую-нибудь выставку в Instagram иногда значит для привлечения аудитории гораздо больше, чем рефлексия критика или эксперта, который 40 лет в этой профессии и является реальным знатоком и авторитетом. И вполне понятно, почему этот новый мир у многих вызывает ощущение паники, к которому, впрочем, лично у меня примешивается чувство интересного вызова.
Анна Дюльгерова: Да, сегодня мы видим некоторый перекос в эту сторону. Если мне нужно, чтобы на выставку пришло большое количество посетителей, я привлеку на нее людей, далеких от мира искусства, но с хорошей конверсией в Instagram. Но рано или поздно все должно прийти к равновесию, потому что не может какой-то светский персонаж, инфлюенсер заменить эксперта.
Николай Палажченко: Но то, что это становится технологией, порождает следующий виток проблем. Ты можешь управлять общественным мнением или скандалом, то есть манипулировать процессами. Но вот что еще важно проговорить: крах экспертизы и критики рушит даже не профессиональную среду (мы — художники, кураторы и сотрудники музеев — как-нибудь разберемся, что хорошо, а что плохо), он тормозит развитие широкой аудитории.
Анна Журба: А заботится ли кто-то реально о широкой аудитории? Обсуждаемый тренд — сильную ориентацию на инфлюенсеров — я называю лакшеризацией музейной среды. Много сил тратится на то, чтобы на открытии появлялись VIP-гости, но на дальнейшее, на то, чтобы привлекать именно широкую аудиторию, у многих институций просто не остается сил.
Николай Палажченко: Аудитория — все-таки не пассивная управляемая масса. Она проактивна и очень изменчива, она теперь сама выбирает, откуда ей лучше черпать информацию, и часто отлавливает ее в модных и удобных медиа, таких как Telegram-каналы или Instagram. Модели распространения и потребления информации очень быстро меняются, и так же меняется пейзаж искусства: на наших глазах несколько очень важных институций и больших проектов деградируют и рушатся, а их роль в художественном процессе, когда-то большая, умаляется до микрозначений. В то же время растет роль маленьких институций, artists-run space, художественных самоорганизаций. При этом нельзя сказать, что все большие институции переживают кризис, но неверно будет и утверждать, что тон задают большие институции. Допустим, Русский музей теряет свое влияние, а Третьяковская галерея — наоборот.

Жорж де Латур. Гадалка. 1632–1635. Холст, масло. Музей Метрополитен, Нью-Йорк к изображению
Анна Журба: Ты сказал, что artists-run space и независимые пространства в России сейчас развиваются, хотя мне кажется, что этот год скорее характеризовался негативной динамикой: например, закрылся центр «Красный», который еще три года назад был номинирован на «Инновацию»…
Николай Палажченко: «Красный» изначально задумывался как pop-up проект, и я, на самом деле, очень поддерживал их решение закрыться, поставить точку. Потому что лучше закрыться вовремя и остаться легендой, чем бесконечно деградировать. Вот, собственно, мы и нащупали еще один актуальный тренд — сокращение жизненных циклов проектов, программная переориентация на их конечность. Причем самые интересные из небольших независимых институций появляются в регионах: характерные примеры — «Типография» и «Заря», но есть много других, которые то открываются, то закрываются.
Мария Кравцова: Я бы с тобой поспорила. Если в Москве действительно происходит динамичная ротация и на месте одной закрывшейся институции появляются две другие, то в регионах ничего подобного не наблюдается. Как пример — Владивосток, где сворачивают свою работу «Заря» и «Хлебозавод» и местное сообщество без оптимизма смотрит в будущее, потому что никаких альтернатив этим институциям нет.
Николай Палажченко: Я скорее хочу сказать, что в регионах сегодня происходит большое оживление, больше появляется, чем исчезает. Например, в этом году таким местом стала Тула, где открылся кластер «Октава» и в нем Музей станка.
Мария Кравцова: Ну слушай, это не локальная инициатива, а амбициозный проект госкорпорации «Ростех».
Николай Палажченко: Неважно, кто это инициировал, я говорю о тенденции, и в целом она хорошая.
Мария Кравцова: Я за этим очень внимательно слежу и могу сказать, что в мозгах региональных чиновников проросла идея развития территорий средствами культуры. Они говорят об этом постоянно — в Екатеринбурге, в Перми, где в конце года всплыл Сергей Капков в качестве советника по культуре, в Нижнем Новгороде. Будущее России настолько туманно и настолько непонятно, что делать дальше, что даже региональные чиновники, которым некогда культура была «параллельна», начинают, как мантру, повторять словосочетание «инновационное развитие средствами культуры».
Анна Журба: Мне кажется, все вышесказанное имеет отношение к очень важному замечанию Коли о том, что мы вошли в экстенсивную фазу развития культурной политики… Но проблема в том, что экстенсивность культурной политики вовсе не равна экстенсивности культуры как таковой. Поэтому если о чем и говорить сегодня, то о перепроизводстве культурного продукта. Каждый день открывается двадцать выставок, но все как-то забыли, что качество проектов не измеряется их количеством.
Николай Палажченко: Здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали, то есть к кризису экспертизы и художественной критики, который, в том числе, и привел к этому психозу перепроизводства.
Ян Гинзбург: Мне кажется, у этого культурного перепроизводства есть и свои герои. Например, такой художник как Покрас Лампас. В диалоге с моим другом Дмитрием Хворостовым мы описали ощущение от искусства Лампаса как вызывающее тревогу. Поэтому мы решили организовать поход на его выставку. Она была громко разрекламирована как «выставка в Манеже» (правда, Манеж не Центральный, а Новый). Минут сорок мы стояли в очереди на вход, не встретив ни одного знакомого лица. В холле мы обратили внимание на пресс-волл с заказным текстом анонимного автора. Текст был написан профессиональным языком. В целом, осмотрев экспозицию, я остался доволен отсутствием на выставке чего-либо похожего на искусство. Как оказалось, все сконцентрировано вокруг самой фигуры Покраса Лампаса, а точнее, стратегии продвижения этого персонажа. Но зрители с большим удовольствием фотографировались, и их было действительно много — сложно представить такое количество людей на открытии персональной выставки восходящих звезд современного искусства. Довольно интересно образование этого культа: к Покрасу Лампасу невозможно было даже приблизиться, прорваться сквозь окруживших его людей. Все снимали перформанс на телефон, было ощущение какого-то массового помешательства. Мне стало интересно, почему об этом никто ничего не написал. Я начал изучать, чем занимается Покрас Лампас, и оказалось, что это другой мир, в нем нет места искусству, к которому мы привыкли. Зато в этом другом мире можно заказать экскурсию на вертолете в Швейцарии, чтобы посмотреть на работу Лампаса, расположенную на крыше здания.
Николай Палажченко: Согласен, Покрас — безусловный герой года. Изначально дизайнер и маркетолог, чего он особенно и не скрывает, он сделал искусство частью своей маркетинговой стратегии. В своем жанре он очень профессионален и абсолютно безупречен, хотя нас, смотрящих с колокольни чистого искусства, многое в нем, конечно же, коробит. Потому что, наверное, не все согласны жить в этом прекрасном новом мире маркетинга, телеграм-каналов и Instagram.
Мария Кравцова: Вот тут вы мы можем зафиксировать еще один тренд — запрос на иммерсивность, на вовлечение. Зрители не хотят просто присутствовать, просто смотреть для них теперь недостаточно. Они хотят участвовать в процессе.
Николай Палажченко: Да, безусловно, но этот перформативный поворот произошел и в так называемом высоком искусстве. Вспомним, например, проект Тино Сегала или проект куратора Александра Буренкова в галерее Высшей школы экономики, который объединил около двадцати молодых художников, работающих на грани перформативных практик и социальной провокации. Современных художников все меньше и меньше интересует непосредственно предметный аспект искусства, собственно, произведение, которое можно потрогать, повесить на стену, выставить в музее… Вот Ян упомянул Покраса как символ минувшего года, но на меня куда большее впечатление произвел блестящий перформанс Бэнкси со шредером, который продемонстрировал, что действие важнее произведения. Бэнкси вообще тонко чувствует тренды.
Ян Гинзбург: Да, все существует внутри событийной логики. Даже зрители, которые просто приходят на выставку, все равно находятся внутри этой ситуации: они общаются, записывают stories и таким образом комментируют происходящее. Какое в этот момент показывают искусство и есть ли оно вообще — это уже не имеет значения.
Николай Палажченко: Вот мы сейчас находимся в недавно открывшемся Образовательном центре ММОМА. Как раньше было? В Пушкинском музее была закрытая научная библиотека, которой пользовались сотрудники музея и немногочисленные доктора и кандидаты наук, приносившие официальное письмо с работы, чтобы их пустили поработать в библиотеку. Сейчас у нас есть библиотека «Гаража», Образовательный центр ММОМА и еще масса мест, где публика не только образовывается, но и профессионализируется, вовлекаясь в музейную деятельность. Музей помогает ей сформировать более осмысленный подход к искусству. Тем же самым занимаются и многочисленные образовательные программы. И это еще один тренд, который когда-то запустил «Гараж».
Анна Дюльгерова: Мне тоже кажется, что фокус на образовательные программы в индустрии современного искусства связан также и с тем, что она развивается и усложняется. Тот же V-A-C привозит работы художников, о которых в России раньше и не подозревали. Конечно, сегодня наша насмотренность выше, чем десять лет назад, но не факт, что люди, пришедшие на «Генеральную репетицию», были когда-нибудь в зарубежных музеях. Индустрия развивается, искусство становится сложнее и требует пояснения.
Мария Кравцова: Давайте поговорим на мою любимую тему. Я периодически беседую с представителями художественного рынка, которые очень противоречивы — от «последний хрен без соли доедаем» до «вчера продали на €70 тыс.» Но от дилеров и галеристов я не жду откровенности, меня интересует другое — почему при таком обилии образовательных инициатив, ориентированных, например, на будущих коллекционеров, этих самых коллекционеров больше не становится?
Анна Дюльгерова: Мне кажется, что в Москве, хотя и открывается довольно много новых галерей, ярмарок, некоммерческие инициативы доминируют над коммерческими.
Николай Палажченко: Я считаю, что это очень плохо, потому что рынок — это в любом случае история про деньги. Не про то, как их красиво потратить, на искусство, например, а про то, как заработать. Более того, у нас сейчас расслабились все участники процесса. Художники не интересуются продажами, а сосредоточены на капитализации собственного бренда. Скажем, Миша Most сейчас зарабатывает на мерче вроде чехлов для телефонов примерно столько же, сколько на продаже картин. Но, как я уже сказал, я считаю, что все это херня. И со временем эта херня либо сожрет арт-рынок, либо как-то рассосется, и рынок вернется на круги своя. Потому что художники и галеристы должны быть заинтересованы в том, чтобы зарабатывать. Безусловно, все галереи в мире делают некоммерческие проекты, но они тратят на них часть своей прибыли, тогда как у нас — в такие проекты не только вкладывается вся прибыль, но и еще сверху добавляются семейные деньги.
С коллекционерами другая беда. Сейчас многие — да и я тоже — рассуждают следующим образом: «Куплю такую-то работу, чтобы поддержать художника или галериста, а ценность этого произведения для меня вторична». То есть коллекционеры относятся к приобретению как к побочке от своей меценатской деятельности или тусовки. Та же ярмарка Cosmoscow мало кем рассматривается как market place — покупать все едут на BRAFA или Art Basel, а Cosmoscow — это место, куда можно сходить выгулять новые «лабутены».
Мария Кравцова: Депрессивно звучит.
Николай Палажченко: Это, на мой взгляд, очень опасный тренд, в основе которого лежат и дематериализация искусства, о которой мы говорили ранее, и политическая ситуация и скептическое отношение к частной собственности в России, потому что у нас она считается чемоданом без ручки. И все это очень плохо и, в конце концов, сдерживает потенциал развития искусства в нашей стране. Если бы у коллекционеров был интерес, например, к инициативам НИИДАР или центра «Красный», наверное, эти проекты были бы помощнее и просуществовали больше. Мы же считаем, что это просто какие-то энтузиасты, и помогать им не надо.
В итоге все это чудовищно депрофессионализиует среду. Пожалуй, можно сформулировать еще один, может быть, главный тренд — дичайшее увеличение числа любителей и «энтузиастов» на всех уровнях и во всех сферах нашей деятельности.
Мария Кравцова: Едем дальше. Среди негативных тенденций — власть начинает приглядываться к искусству как к инструменту пропаганды. Все эти сделанные совместными усилиями ГТГ, патриархии и РОСИЗО грандиозные выставки в Манеже с бесплатным входом и очень идеологизированной консервативной повесткой.
Анна Журба: Это очень важная тема… И мне кажется, что она напрямую связана с моральным состоянием художественной среды, о котором мы говорили в начале. Это состояние, которое мы объясняли разными факторами, по-моему, в том числе связано и с отсутствием жестких этических принципов у большинства представителей сообщества. Сообщество аполитично, сосредоточено на супер-мега-перепроизводстве, оно потеряло чувство коллектива, у него нет моральных авторитетов. В ситуации отсутствия института критики все всё хвалят не глядя и ругают не смотря. Мне кажется, что все это и позволило власти гораздо сильнее в последнее время вмешиваться в художественный процесс. Она понимает, что никто сейчас не выйдет на улицу в «желтых жилетах», никто не будет бороться за «наше искусство и нашу культуру». Но в культуре очень сложно работать без этики и морали, и я надеюсь, что мы стоим на пороге создания новой этики.
Мария Кравцова: Я очень хорошо помню один из моментов так называемой «капковской культурной революции», когда многие деятели современного искусства поверили в то, что сотрудничество с властью возможно. Эти иллюзии, как мы помним, закончились делом Серебренникова. Но, в общем-то, все это было предсказуемо — вся история нашей страны свидетельствует, что взаимоотношения деятелей культуры и власти строятся либо по принципу отказа от себя и безоговорочного служения идеологической машине, либо по принципу «не верь, не бойся, не проси», ну и «не сотрудничай».
Николай Палажченко: Ян, а в твоей жизни присутствует политика?
Ян Гинзбург: На днях мне позвонил куратор Арсений Штейнер и предложил участвовать в его новом проекте в Музее декоративно-прикладного и народного искусства. Я не был на выставке «Актуальная Россия», но помню, что она вызвала резонанс и поставила ряд этических вопросов для художественного сообщества. Поэтому достаточно интересно, что у Арсения получится в этот раз.
Мария Кравцова: Какие этические вопросы тогда были поставлены? Я что-то не припомню.
Ян Гинзбург: На выставку попали работы без согласия самих авторов, для многих это был репутационный удар. Так как они не разделяли идеологической концепции выставки, по их требованию работы убрали из экспозиции, однако некоторые художники оправдывались в фейсбуке, но не сняли работы с выставки.
Мария Кравцова: Это не единичный случай. К сожалению, работы из институций и из частных коллекций нередко попадают на выставки без согласия художников. Тут интереснее обсудить то, как художник делает выбор участия или неучастия. Художники хотят быть представленными, хотят выставок, это такой художнический невроз, еще советская травма. И перед иллюзией «большого музейного проекта» они готовы забить на все этические и политическое противоречия.
Ян Гинзбург: Мне приятно, что Арсений позвонил, возможно, у него действительно есть интерес ко мне как к художнику. Пока в России я не видел удачных больших групповых проектов, где кураторы справлялись с тем, чтобы представить художника в должном виде, не преследуя своих интересов, поэтому не рискую. А очередная возможность представить часть вместо целого меня не интересует.
Мария Кравцова: Но ваш проект «Механический жук» очень удачно разошелся по разным собраниям именно отдельными частями.
Ян Гинзбург: «Механический жук» не был задуман как тотальная инсталляция, более того — в этой работе рынок сам по себе был темой для рефлексии. Мне было интересно попытаться запустить рыночный механизм, поэтому галерея в данном случае — это площадка для эксперимента, а участие в ярмарке — его продолжение. Я подсмотрел это у Гройса, где он рассматривает проблему концептуализма как искусства, изначально направленного против капитализма. Но в целом никакими прописными правилами я не пользовался и действовал интуитивно.
Николай Палажченко: Ты в итоге поверил в рынок?
Ян Гинзбург: Психологически мне было непросто делать выставку в галерее, но оказалось, что рынок в России действительно существует.
Мария Кравцова: Еще вопрос. Мы уже поговорили про дематериализацию и перформативный переход в искусстве, но я вижу еще одну тенденцию — реактуализацию искусства нонкоформизма. Причем я имею в виду не многочисленные ретроспективы наших классиков вроде Виктора Пивоварова или Эрика Булатова, а то, что так называемые молодые художники начинают соотносить себя с этим искусством и историческим нарративом примерно так же, как поколение нонконформистов соотносило себя с авангардом. Это интересно в том числе и потому, что когда я 15 лет назад пришла в наше сообщество, художники-нонконформисты были скорее частью антикварного рынка, то есть очень далеки от актуальных трендов. Среди художников, которые находятся в диалоге с искусством нонконформизма я могу назвать вас, Ян, Евгения Антуфьева, Александра Повзнера, Андрея Кузькина. Ян, с чем связан ваш интерес?
Ян Гинзбург: Во время работы выставки «Механический жук» я открыл для себя формат экскурсий, во время которых в сжатой форме удается передать темы, волновавшие меня во время работы над проектом. К тому же на протяжении работы выставки на нее приходили люди, знакомые с Кабаковым, и рассказывали интересные истории, которые обогатили проект, сделав его объемнее. Я вообще делаю акцент на памяти зрителей, которые чувствуют себя сопричастными этой истории. Например, для меня очень важным стало воспоминание Андрея Ерофеева о том, как в 1990-е он спасал от бандитов работы из мастерской Кабакова. Рассказ Андрея очень расширил мое понимание того, что происходило с искусством Кабакова в Москве в его отсутствие. И если (изначально, конечно) мои объекты и щиты имели симулятивный характер, то в процессе выставки они стали настоящими. Окончательно это произошло после письма Кабакова Андрею Монастырскому, где Илья Иосифович поделился своими впечатлениями о выставке. К тому же у меня никогда не было желания перевоплотиться в Кабакова, скорее, меня его фигура сподвигла на размышления о том, что художник всегда стоит перед выбором, в том числе политическим: вступить ли ему в Союз художников, участвовать ли в Бульдозерной выставке, эмигрировать и т. д. И вся жизнь художника состоит из этих мучительных моментов.
Мария Кравцова: Да, эта выставка вовсе не оммаж Кабакову. Вы скорее его апроприируете. Точно так же, как Антуфьев апроприировал Краснопевцева.
Ян Гинзбург: Мне кажется что у нас с Женей разные подходы. В своих проектах он выстраивает диалог с художником при помощи пластических работ, но при этом, если убрать Краснопевцева с выставки, будет выставка работ Антуфьева. У меня такую операцию не получится провести, потому что это единая конструкция.
Николай Палажченко: Этот тренд, по-моему, связан в том числе и с тем, что старшее поколение художников — Булатов, Краснопевцев, Рабин, Плавинский — окончательно музеефицировалось. Сейчас и цены на искусство этого поколения приличные, и рынок на них стабильно растет. С другой стороны, этот пантеон уже сложился, он всем понятен и его очень сложно поколебать, все засахарилось. Поэтому для меня все самое интересное происходит вне этого контекста. В 2017 году я сделал проект «Прощание с вечной молодостью» на Винзаводе, в котором зафиксировал процесс перехода из стадии «молодой художник» в стадию «активный деятель среднего поколения». Но теперь мне ужасно интересно, что сейчас происходит с поколением плюс-минус сорок. А вот те, кто между 40 и 75, все эти Гутов, Дубосарский, Кулик, Шабельников — они все немножко как-то резко растерялись. У них у всех почти одновременно случился какой-то климакс. Кажется, они всем стали неинтересны.
Ян Гинзбург: Им не дали постареть просто.
Мария Кравцова: Я с другим все это связываю. Среди этого поколения довольно много случайных людей. Людей, которые попали в контекст того, что мы называем «современным искусством», просто потому, что им некуда было податься после развала советской художественной системы. И, возможно, в какой-то другой ситуации их история сложилась бы как-то по-другому. Но да, мне прямо стыдно на некоторых смотреть сейчас. Это даже уже не салон, куда многие из этого поколения опрокинулись в нулевые, это уже какая-то «набережная у ЦДХ». Полная интеллектуальная и творческая импотенция. И все стыдливо отводят глаза, предпочитая не говорить об этом.
Николай Палажченко: То, что казалось суперходом в конце 1990-х — начале 2000-х — сейчас просто мусор, который бабушка подметет в совочек и выкинет из истории искусства, да? Так получается? Для меня это не тренд, а скорее вопрос: что происходит с этим поколением? Вам интересны эти художники, вы видите какую-то связь с ними? Или должен пройти еще какой-то цикл, чтобы к ним снова появился интерес?
Мария Кравцова: Время покажет. Я думаю, это поколение, конечно, в какой-то момент будет реактуализировано, но через какие-то другие фигуры.
Анна Журба: Я думаю, что в этой связи, по крайней мере, с моей точки зрения как куратора, отдельный художник неинтересен. Каждый год делается довольно много монографических или групповых выставок русских художников, их место в истории русского искусства уже более или менее понятно, в этой сфере не происходит мегаоткрытий. Что сейчас очень нужно делать, так это выстраивать диалог российских постсоветских художников с художниками других постсоветских стран и вообще других стран. В качестве еще одного тренда я бы назвала ощущение какого-то вакуума, изоляции. В Москве сегодня показывается довольно много западных проектов. Они приезжают, уезжают, открываются, закрываются и при этом редко контекстуализируются. Поэтому мне кажется, что тем художникам, которые еще пока находятся в статусе «молодых», важнее всего находиться в диалоге с коллегами из других стран, в противном случае у нас получится художественная Северная Корея.
Николай Палажченко: Это как раз история про культурную политику и еще история про уровень профессионализма. Мы начали с того, что зафиксировали ситуацию депрофессионализации среды. А ведь эта депрофессионализация еще очень сильно связана с потерей связи с международным контекстом и потерей (что еще больше двигает нас в сторону провинциальности) влияния вот на этот мировой художественный контекст. В советское время мы хотя бы делали что-то уникальное и странное, а сейчас делаем вторичное по отношению к тому, что происходит на Западе. Вон в уже упомянутой Северной Корее шелком шьют красных командиров, это прикольно. Из-за дичайшей депрофессионализации у наших институций отсутствует внятная международная политика, что выливается в потерю профессиональных связей с международным контекстом. Раньше на этом поле очень активным был фонд Московской биеннале в лице Иосифа Марковича Бакштейна, раньше та же Ольга Свиблова делала потрясающие выставки на Западе, в Майами, например, в 2008 году. Это было важная попытка предъявления русского искусства в международном контексте.
Мария Кравцова: По-моему, это была попытка влияния на потенциальных русских спонсоров музея, а не на международный контекст.
Николай Палажченко: Вовсе нет. В любом случае, сегодня у нас в международном контексте действуют только V-A-C и ГМИИ им. А.С. Пушкина — русский музей, который в Венеции придумал свой павильон, за что их можно только похвалить. И мое пожелание на 2019 год — очень хотелось бы, чтобы интеграция русского искусства в международный контекст уже превратилась из разговоров в реальность, чтобы у крупных российских культурных институций, не только московских, появилась артикулированная внешняя политика, чтобы русские галереи вернулись на ведущие мировые ярмарки и так далее.
ВВЕРХ
|